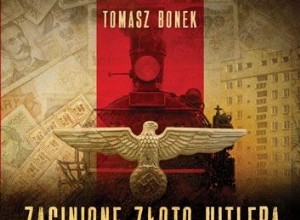Поезд шел всю ночь, с редкими простоями. Когда пленники поняли, что повозки направляются более или менее на северо-запад, их охватило волнение. «Мы действительно собираемся в Польшу?» Многие из них задумались.
Вскоре поезд остановился. Сорокашестилетний о. Антоний Александрович услышал жужжание автомобильного двигателя из-за стены фургона без окон и быстрые шаги. Рядом кто-то вдруг крикнул:
- Разгружаются!
Нормальное действие по передаче?
Вскоре в купе Александровича вошел офицер НКВД. Он приказал забрать свои вещи и отправился уходить.
Когда священник стоял в дверях темного вагона, он, щурясь от апрельского солнца, заметил, что поезд застрял метрах в 200 перед станцией. Неизвестно, заметил ли священник имя Гнездово. Он был удивлен, что на заброшенной платформе не было ни души.
Между поездом и платформой была большая площадь, частично заросшая травой. С левой стороны его отделяла лесная дорога, идущая перпендикулярно путям. Рядом с ним был невысокий забор из перил. Вокруг были кусты и деревья. По площади бродило много советских патрулей и несколько старших офицеров. Александрович отметил, что почти все были прикреплены к оружию штыками. «Почему так много проблем с обычным трансферным актом?» Он подумал.

Статья представляет собой отрывок из книги Жрецы Катыни , который только что вышел в продажу Издательским домом «Знак Горизонт»
У дороги стоял обычный, как вы на мгновение подумали, пассажирский автобус. Выглядело нормально, но окна были заляпаны известью. Через некоторое время машина подъехала к фургону и встала через заднюю дверь, ведущую к подъезду. Александрович смог прыгнуть в депо прямо со ступеньки поезда. По обе стороны стояли сотрудники НКВД с оружием и тревожными штыками в руках. Отцу Антонию удалось увидеть еще одну тюремную машину, рядом с которой стоял полковник НКВД, засунув руки в карманы длинного военного пальто.
Когда внутри оказалось около 30 заключенных, двигатель взревел, и автобус двинулся в сторону лесной дороги. Вскоре он исчез за деревьями.
История отца Антония Александровича
Вопреки судьбе о. Зилковский, история о. Майор Антони Александрович скрывает еще больше тайн и белых пятен. Однако оно столь же трагично, хотя здесь, конечно, неуместно применять математическую градацию уровня «трагического». По сравнению с Зилковским Александрович провёл в Козельске очень мало времени:лишь последние несколько недель своей жизни. Однако ему удалось подробно узнать о судьбе узника на «нечеловеческой земле» .
Антоний родился 11 июля 1893 года в Минске-Литевском (ныне столица Беларуси) в семье Леопольда и Антонины, урожденной Тарайкович, в польской католической семье. Итак, в отличие от большинства героев этой книги, он не воспитывался в деревне. В Минске он окончил начальную и среднюю школу. Следует помнить об интенсивной русификации, проводившейся в то время царскими разделителями, которая лишь немного ослабла после революционных потрясений 1905 года.
Покинув гимназию в 1911 году, Антоний решил пойти по священническому пути. Неизвестно, было ли это его собственное решение или сыграли роль планы и уговоры семьи (как в случае с отцом Зилковским). Однако дальнейшая судьба Александровича показала, что он, должно быть, нашел свое истинное призвание.
Встал выбор места, где это можно было бы реализовать. В конце концов Александрович решил поступить в Римско-католическую духовную семинарию в далеком Санкт-Петербурге. Почему именно туда? Это неизвестно. Объект функционировал под пристальным вниманием российских властей. Здесь могли учиться только те, кто закончил не менее четырех классов классической гимназии. Кроме того, кандидаты должны были предоставить свидетельство о крещении, свидетельство о чистоте и добросовестности местных властей, рекомендацию епископа, а также характеристику местного приходского священника или катехизатора. Затем нужно было сдать вступительный экзамен на знание катехизиса, Библии, а также русского и латыни, а также русской истории и географии.
На семинар привлекалась молодежь со всей царской империи, в основном поляки, литовцы, латыши, белорусы, немного русских и даже исключительно французы и немцы. По численности преобладала молодежь из Каунасской, Вильнюсской и Витебской губерний.
Антоний провел шесть лет в Петербурге. Здесь он пережил большую часть Первой мировой войны и был рукоположен в священники в 1917 году. Почти сразу его направили катехизатором (с официальным званием «префект школ») в Бобруйск – город в нынешней центральной Беларуси. Через несколько месяцев, еще будучи катехизатором, он вернулся в родной город Минск.

Отец майор Антоний
Александрович (в верхнем ряду
) с детьми
Времена были неспокойные:война только заканчивалась, рождалась Польша, нужно было воевать и защищать свои границы. Молодой священник попал в ловушку великой истории :в 1919 году он вступил в Войско Польское добровольцем и принял участие в польско-большевистской войне в качестве военного контрактного (и, следовательно, временного) капеллана.
Он оказался настолько удачлив, что в августе 1920 года – в то время, когда на линии фронта по Висле зависело будущее польской государственности (а возможно, и будущее Европы) – его назначили профессиональным капелланом в звании капитана. Эту функцию он выполнял в составе 4-й польской армии. Эта армия, сформированная всего четырьмя месяцами ранее, приняла участие в знаменитом августовском маневре польских войск, вошедшем в историю как Чудо на Висле. и кто начал польское контрнаступление на восток. Отец Александрович участвовал в битве на Нямунасе, вместе с 4-й армией завоевал, в частности, Гродно и Барановичи. В октябре 1920 года, после освобождения родного Минска, было объявлено перемирие, а через несколько месяцев, после подписания польско-советского мирного договора в Риге, 4-я польская армия была расформирована.
За это короткое время пребывания на фронте о. Начальство хорошо помнило Антония. В служебном заключении, подготовленном в декабре 1920 г. о. Станислав Гавла, декан министерства 4-й армии, читаем:
<блок-цитата>Открытый характер, большой энтузиазм и инициатива в работе, священническое рвение, полная самоотдача и преданность делу солдата. Он часто ходит в казармы и ищет личного контакта с солдатами. В личной жизни безупречен.
Александрович был «общителен, вежлив, по-своему очень легок и тактичен». Он быстро завоевывает симпатию начальства и коллег. Он активно участвует в организации польского общества в приграничье и приносит туда свой энтузиазм». Только «менее подходит для офисной работы».
Одним словом:энергичный, восторженный, ревностный священник, не слишком заботящийся о бюрократии . Эти оценки на весьма оригинальном польском языке подтвердил командующий 4-й армией генерал Леонард Скерский:
<блок-цитата>Капеллан о. Александрович — весьма положительный и весьма желанный тип капеллана-воспитателя, потому что и его личная жизнь, и его безупречное поведение, а также страстное исполнение им трудных, весьма трудных в настоящее время, обязанностей оказывают влияние на солдатские массы.
В знак признания заслуг перед фронтом священник впоследствии был награжден <сильной> Памятной медалью войны 1918-1921 годов и медалью Десятилетия восстановления независимости.
После расформирования армии Александровича весной 1921 года направили в гарнизон капелланом в город Слоним, в устье реки Иссы. Гарнизон входил в состав военной капелланской структуры в Барановичах, которая, в свою очередь, входила в состав IX корпуса окружного управления № 9 со штабом в Бресте-на-Буге. Подробностей служения о. Антоний этого периода. Известно, что он показал себя прекрасным проповедником, привлекая внимание слушателей.

Братская могила - эксгумация 1943 г.
Вскоре он стал приходским священником, а в 1926 году был назначен администратором военного прихода в Слониме. Там он провел следующие четыре года. Как отмечено в заявке на Серебряный крест за заслуги:
<блок-цитата>[...] будучи капелланом гарнизона более 9 лет, а затем приходским священником военного прихода в Слониме, он внес большой вклад в пастырское окормление, имея глубокую страсть к распространению доброго духа среди солдат [...]. Он был образцовым капелланом и солдатом, подавая хороший пример окружающим.
Конечно, трудно ожидать, что такое заявление будет подвергнуто критике кандидата на награду, но это мнение было поддержано командованием ДОК № IX, и заявление было рассмотрено положительно.
В 1930 году Александрович покинул Слоним и перешёл на военную капелланскую должность в Вильнюсе, подчинявшуюся командованию III корпусного округа в Гродно (несколько лет назад там работал священник Зилковский). Помимо выполнения обязанностей капеллана, Антоний окормлял три военные часовни в Вильнюсе и служил в Военной следственной тюрьме.
Через год он был произведен в сан настоятеля военного прихода в Вильнюсе. Однако здесь он больше не задержался:в 1932 году вернулся в флигель ДОК № IX, заняв ту же должность, что и священник военного прихода св. Антони Падевский в Барановичах – более значимый, чем в Слониме. Он оставался здесь до начала Второй мировой войны. Ранее, в январе 1936 года, ему было присвоено звание старшего профессионального капеллана в звании майора.
В марте 1939 года через Польшу прошло известие о мобилизации, объявленной властями в связи с угрозой конфликта с Германией. Отец Францишек Пивоварский, один из капелланов ДОК № IX, вспомнил, что обсуждал со своим коллегой о. Александрович по этому поводу:"Отвечал веселыми анекдотами, потому что тоже не верил в возможность войны, но серьезно говорил, что с солдатами надо говорить сердечно, кратко и просто, - этот совет скоро пригодился... ".
Судьба войны
После 1 сентября 1939 года Александровича отправили на фронт. Вероятно, он покинул Барановичи с частями, сформированными в так называемом Центре сбора излишков 78-го стрелкового полка. По некоторым данным, служил в 20-й стрелковой дивизии, сражаясь в т.ч. возле Млавы. Вскоре при неизвестных обстоятельствах он был ранен в ногу и сразу после этого был взят в советский плен.
Мы не знаем, что с ним происходило в последующие дни, в каком распределительном лагере он находился. Возможно, он ненадолго оказался в Новогрудке. Однако в конце концов его перевезли в Старобельск.
В условиях боя, а затем и военнопленных, он не мог должным образом исцелить себя. Его товарищи по лагерю вспомнили, что он постоянно хромал. Тем не менее, он был одним из самых активных священников в катакомбных условиях Старобельска. Мужчина с длинной бородой, опирающийся на палку, должно быть, напоминал другим пленникам ветхозаветного пророка. Он тайно служил мессы и молитвы, исповедовал, утешал и благословлял.
Как и в Козельске, исповеди происходили в основном во время прогулок по лагерной площади. Так что если бы вы увидели двух офицеров, идущих под руку и погруженных в серьезный, тихий разговор, можно было бы предположить, что один из них присутствовал на таинстве покаяния. О другом виде исповеди вспомнил о. Леон Муселяк: «Капелланы исповедовались так, что двое мужчин сидели рядом за столом, брали в руки советские газеты, «Правду» или другие и якобы читали - и это было исповедь.
Случилось так, что люди, которые до войны не считались практикующими католиками, под влиянием лагерной реальности теперь имели пожизненную исповедь. Не исключено, что и другие по тем же причинам отвернулись от своей веры.
Сервис в Старобельске
День 11 ноября 1939 года, когда о. Александрович решил достойно отпраздновать это событие специальным богослужением. Действие происходит в одной из казарм, а очевидцем событий был художник Юзеф Чапский:
<блок-цитата>В грязном коридоре, заполненном заключенными [...], о. Александрович из латинского требника перевел на польский язык евангельский текст о девушке, которую воскресил Христос. Все знали Евангелие, и теперь слушали так, как будто слышали его впервые, и плакали от раскаяния, что у них мало веры и что у них бывают минуты, когда они сомневаются, что девица не умерла, а спит.
Трогательная история воскрешения могла бы дать надежду на то, что они, забытые миром узники советского лагеря, тоже вернутся в мир живых. Их история, однако, была лишена счастливого конца.

Катынский узел – руки связаны на спине жертвы
Несмотря на принятые меры предосторожности, активность Александровича была настолько велика, что Советы не могли этого не заметить. Священнику грозило суровое и жестокое наказание, возможно, большее, чем большинство других заключенных. По некоторым данным, он оказался в небольшой кабинке, расположенной в одной из церковных башен, где оставался в полном одиночестве до последних дней перед Рождеством 1939 года. Затем, незадолго до сочельника - как утверждают некоторые источники - он обнаружил себя в небольшой группе священнослужителей разных конфессий, с которыми случилось неожиданное «приключение».
Забрать
По одному из сообщений, в ночь с 23 на 24 декабря о. На Энтони напали сотрудники НКВД и приказали ему немедленно собираться. Дрожащими руками он расставил свои скромные пожитки по внезапному настоянию Советов. Несмотря на давление, он задержался, словно чувствуя, что с ним не произойдет ничего хорошего. Мгновение спустя его подвели к нескольким машинам, уже ожидавшим с работающими двигателями. Он увидел, что он не один, что сюда же направляются несколько человек, которых он не мог узнать в суматохе и темноте. За этой сценой наблюдали несколько случайных зрителей:другие пленники. Некоторые из них помнили, что Александрович, выходящий из здания с помощью вооруженных солдат, был мертвенно бледен и выглядел так, как будто он был очень напуган.
Некоторую путаницу здесь вносят опубликованные воспоминания Бронислава Млынарского, который запомнил сцену депортации священника. Однако в этих отношениях есть две проблемы:во-первых, священник должен был находиться вместе с другими офицерами, а не в одиночной камере (не исключено, что он вышел из нее раньше). Во-вторых, Млынарский пишет об «отце Адамском» — но, как я упомянул во введении, он мог иметь в виду Александровича. В общем, воспоминания довольно смутные, но некоторые их фрагменты процитировать стоит:
<блок-цитата>[…] в ту ночь, когда большинство из них спали, а я не мог заснуть, я отчетливо услышал со стороны коридора шаги нескольких человек и приглушенную русскую речь. Я подтолкнул Зигмунта [Кварчинского]. Мы оба посмотрели - вниз, на вход в комнату, несмотря на тусклый свет, мы сразу узнали широкие плечи и голову [политика] Степанова, рядом с ним - морщинистое лицо маленького Копейкина и лохматую голову ночного сторожа рядом. ему. Я знал, что они пришли за чужой душой. […]
Без долгих поисков они нашли путь прямо к своей жертве. Копейкин поднялся на досках до уровня второго этажа и прошептал шепотом, дергая лежащую жертву за ноги:
- Эй ты там, Адамский! Немедленно вставай! Соберите свои вещи. Жить!
Итак, случилось то, чего мы боялись. Они пришли за нашими капелланами. Зловещее дополнение «с вещами» указывало на ворота лагеря, а что за ними – одному Богу известно.
Священник послушно поднялся с кровати и встал в нижнем белье, босиком, в грязи между нарами. Не говоря ни слова, он оделся и старательно положил свои безделушки на одеяло. Он только шевелил губами, как в молитве. Тем временем в пробужденной ото сна комнате сначала шепот Крещенда перерос в громкое жужжание. Люди поднимались с постелей, сидели, смотрели, и многие из них громко обращались к священнику со словами прощания.
- Всем ложиться! Молчать! - яростно ревел Степанов, побагровев в лице. И затем он продолжал извергать свою чрезмерную злобу на священника, жестоко его толкая […]. Полная тишина воцарилась в комнате, когда отец Адамский, готовый уйти, бросил свой узел на спину нищим, высоко поднял правую руку и знамением святого креста попрощался со своими коллегами, застывшими в удивительной, яркой картине. . 150 голов длинными рядами смотрелись с трехэтажных нар на узкий проход, где стояли Политрукия и отец Адамский.
Чтобы еще больше усложнить картину, следует добавить, что в рассказе Млынарского есть еще и хронологическая проблема. Некоторые источники, причём заслуживающие доверия, требуют, чтобы о. Александровича группе из 10 священнослужителей разных конфессий, депортированных из Старобельска не перед сочельником, а только 2 марта 1940 года. Как было на самом деле? Млынарский, возможно, ошибся в датах, но само описание - при сохраненных эмоциях и впечатлениях - остается достоверным. А может быть, «Адамский» — это не Александрович? Историк порой беспомощен перед лицом взаимоисключающих данных, которые невозможно полностью подтвердить или опровергнуть. Не исключено, что поставок было на самом деле две:в декабре и марте.

Кадр из фильма "Катынь"
Одно можно сказать наверняка:после нескольких десятков часов пути – может быть, с пересадками – о. Антони и другие добрались до одной из тюрем НКВД в Москве. Что с ним не так? Сколько он пострадал? Опять же, эти вопросы остаются без ответа.
Во всяком случае, о. Антоний, скорее всего, попал в пресловутую тюрьму в Бутырках или не менее мрачное учреждение на Лубянке где ему пришлось пережить часы допросов, долгие дни одиночества и, возможно, избиения и пытки. Мы меньше всего знаем об этом периоде. Провел ли он там три месяца или всего около дюжины дней? Отец Францишек Тычковский, еще один московский узник, сумевший пережить войну, вспоминал годы спустя:«О. Александрович. Ощущение этого братства весьма подслащивало мрачный режим тюремного существования. »
В конечном итоге, скорее всего, в марте Александровича перевезли из Москвы в Козельск. Возможно, он оказался в изолированной комнате, где содержались другие священники, а может быть, в одной из «обычных» бараков. Встречался ли он с о. Зилковский? Это неизвестно. Интересно, воспринимал ли он условия в Козельском лагере лучше или хуже, чем те, которые он встречал в Москве и Старобельске . Мы никогда этого больше не узнаем.
Обманчивая надежда
Тем временем в марте в Козельске появились первые признаки весны. Из лесов и полей тек запах свежей, зародившейся жизни. Повсюду еще лежал снег, и ночи могли быть морозными, но было ясно, что уже приближалась весна. Один из выживших заключенных вспоминал:
<блок-цитата>В чистом морозном воздухе была какая-то утешающая сила, а запахи пробуждающейся природы ласкали чувства. Снег на солнце был ослепительно белым, а ночью сверкал отблесками звезд. Днём узники собирались у стен церкви в укрытых от ветра местах, расстегивали пальто, снимали шапки и предавались ласкам солнечных лучей. Некоторые из них загорели почти как в довоенные времена на лыжных прогулках.
Когда к тому же в церковных залах стали ходить слухи о развале лагеря, многие заключенные с неожиданно возобновившейся надеждой стали подозревать, что не только природа просыпается к новой жизни. Отец Александрович мог услышать полные волнения, но тихим голосом слова заключенного с оптимистическим взглядом на будущее, записанные в воспоминаниях Станислава Свяневича:
<блок-цитата>Господа, несомненно, что советские власти очень озадачены нашим делом. Они были настолько неосторожны осенью прошлого года, что схватили огромное количество польских офицеров – и теперь не знают, как выйти из ситуации. В конце концов, мы офицеры-союзники. Из-за нас Советам грозит конфликт с могущественной франко-английской коалицией. В любой момент на Западном фронте начнется наступление французов. Советы не могут себе позволить еще больше раздражать отношения, потому что ВВС [французского генерала] Вейгана могут за несколько часов разбомбить Баку и обездвижить крупнейшие центры нефтяной промышленности России. Недавно политик, который был в нашем квартале, сказал нам, что мы даже не можем себе представить, сколько криков в мире из-за нас!
Трагический факт заключается в том, что этот офицер был неправ практически в каждом предложении. Советы знали, как выйти из этой «ситуации» самое позднее к началу марта. Свяневич прокомментировал:
<блок-цитата>И солнце пролило свой свет и украсило им обшарпанные стены Козле монастыря; снег сверкал белым и медленно сжимался, слегка плеская по поверхности. Мир был так прекрасен и все дышало такой надеждой на новое расцветание жизни, что даже самым стойким скептикам хотелось поверить в правильность этого рассуждения.
Является ли о. Антоний тоже увлекся призрачной надеждой? Он не умер после депортации в Москву, может теперь будет ещё лучше? Конечно, были те, кто считал сценарий передачи военнопленных союзникам маловероятным. Однако для них геноцид был невообразим. Скорее, они ожидали, что их отправят обратно к местам проживания (данным на допросах), а значит, зачастую и на территорию немецкой оккупации. В худшем случае их ожидала либо прямая сдача немцам (как военнопленные), либо перевод в другие советские лагеря, либо ссылка – как во времена разделов. Реальность превзошла самые мрачные сценарии.
Среда, 3 апреля 1940 года, обещала стать еще одним обычным днем в Козельске, хотя слухи о закрытии лагеря становились все яснее и яснее. Около полудня в комнату, где мог находиться Александрович, ворвался охранник и назвал одного из офицеров по имени. Поначалу на это никто не обратил внимания:подобные сцены повторялись по многу раз в течение дня уже много месяцев. Однако неожиданно офицер, прочитав имя, добавил характерные слова «пророчица собирайтес», означающие «иди со своими вещами».
По комнате пронесся ропот удивления. Такое выражение означало, что вызванного человека по какой-то причине изолируют от остальных и депортируют. Все равно брать было особо нечего:у многих заключенных было только одеяло или пальто. Удивление вызывало то, что этот офицер не был какой-то исключительной фигурой - всего лишь рядовой военнопленный, линейный офицер, не имевший никакого отношения ни к спецслужбам Второй Польской Республики, ни даже к Пограничному корпусу. Откуда же взялось это «отличие» от советского лагерного начальства?
Когда офицер ушел вместе с охраной, все оживленно спорили по поводу странного дела. Тут ворвался военнопленный из другого блока и рассказал, что одного из его друзей тоже вызвали из его комнаты с гадалками. Интерес о. Количество Антони и остальных возросло по мере того, как отовсюду начали поступать сообщения о подобных инцидентах. Быстро подсчитали десятки вызовов. Всем стало ясно, что долгожданная ликвидация лагеря только началась.
Днем Александрович услышал еще более сенсационную информацию:здесь монастырь начали посещать друзья из скита группами по десяток человек. Они явились со всем своим скромным имуществом. До сих пор они были строго отделены от остальных. Теперь никто не был против того, чтобы они останавливались, разговаривали, обменивались информацией. Этот факт вызвал радостное волнение:изменилась ли политика советской власти? Разве они не считали уже присоединение восточной Польши к СССР завершенным фактом?
И вызванных из монашеских келий, и новичков из скита направляли в помещение, называемое «клуб». Это был большой зал, куда время от времени гоняли военнопленных на показы советских пропагандистских фильмов. Возможно, о. Александрович и его спутники тоже направились в сторону «клуба». Как и остальным, ему было любопытно, что будет дальше. Вход в «клуб» охраняла охрана, поэтому быстро растущая толпа зевак выстроилась в импровизированные переулки перед зданием. Вход допускался только вызванных лиц и «скитчеров». Последних с особым восторгом встретили оставшиеся заключенные, всех приветствовали криками и пожеланиями.
Пришло время ужина. Александрович и другие заметили новое, необычное явление: здесь офицеры, отобранные для выезда, получали почти изысканную (для лагерных условий) еду. «Видимо, Советы хотят оставить хорошее впечатление», — комментировали все. Кроме того, избранные получили еще и провизию в дорогу:800 граммов хлеба, немного сахара и по три селедки. Было сенсационно, что провизия была завернута в бумагу:новенькую, серую чистую бумагу. Это был товар на вес золота:дефицитный и в то же время чрезвычайно полезный на многих уровнях:от написания писем до скручивания сигарет и… физиологической деятельности.
Сотни продуктовых посылок, щедро завёрнутых в свежую бумагу, произвели на всех большое впечатление. «О, русские показывают, какая у них высокая, социалистическая культура» — раздавалось в толпе. Но за этим сарказмом скрывалась надежда:наконец-то шанс покинуть лагерь стал конкретным, а то, как обращались с первыми избранными, казалось, наводило на мысль, что их отправят на запад. Просто будьте счастливы.
Вечером, после насыщенного событиями дня, быстро подсчитали, что в первом транспорте было около 300 коллег. Большинство остальных хотели как можно скорее разделить свою судьбу. Запад казался лучшим возможным направлением.

Статья представляет собой отрывок из книги Жрецы Катыни , который только что вышел в продажу Издательским домом «Знак Горизонт»
В последующие дни установился определенный распорядок действий. Утром еще не было известно, пойдет ли в этот день транспорт из лагеря или нет. Около десяти часов коменданту лагеря позвонили из Москвы и сообщили о дате перевозки и именах отобранных для него заключенных. Подобный разговор затянулся нещадно:голос в трубке зачитал в общей сложности около 300 имен, часто труднопроизносимых для русских. Их даже слышали заключенные из комнат возле комендантской квартиры.
Назвав первые несколько десятков имен, охранники разбрелись по бараку, призывая избранных заключенных собраться и явиться в «клуб». Там избранные получили хороший обед и провизию в дорогу. Тот факт, что все решалось непосредственно Москвой, обнадеживал:казалось логичным рассуждать о том, что советские власти достигли некоего соглашения с союзниками, возможно, с Германией. Большинство заключенных неосознанно предполагали, что людей вывозят за границу. > Кто-то из политиков это предложил. Некоторые из заключенных задавались вопросом, как союзники могли что-то навязать СССР или почему немцы хотели, чтобы на их головы были тысячи польских офицеров. Однако неудобные вопросы были отложены.
Неизвестно, какого мнения о. Александрович и на что он рассчитывал, когда его имя наконец было прочитано, внесен в московский список под № 017/1, п. 1, дело № 4915. Достоверно известно, что он сел в поезд, направлявшийся в сторону Смоленска и вся информация о нем была потеряна.
*
Труп о. Александровича не опознали во время немецкой эксгумации в 1943 году. Однако его жизнь и мученическая кончина были увековечены символически:в ноябре 2007 года ему было посмертно присвоено звание подполковника.
Статья представляет собой отрывок из книги «Ксенжа из Катыни», только что выпущенной в продажу издательством «Знак Горизонт»