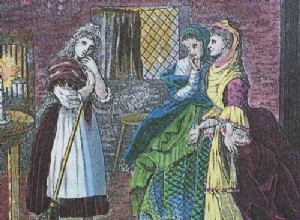Музей Бурхааве в Лейдене временно закрыт из-за капитального ремонта. Однако большую часть коллекции можно найти не в музее, а в депо. NEMO Kennislink разрешили просмотреть невообразимо большую коллекцию.
Микроскопы любых форм и размеров. Анатомические модели из папье-маше. Прототип первой искусственной почки. Старинные хирургические инструменты. Химическая посуда чудесной формы. Тестовые модели телефонной станции. Восковые модели глазных болезней. Математические формулы, выполненные в камне. Машина для нарезки мозга тонкими ломтиками. Исторические физиотерапевтические устройства.
Вы не представляете, находится ли он в депо Музея Бурхааве в Лейдене, Рейксмузеума истории естественных наук и медицины. Под руководством руководителя реставрации Пола Стинхорста NEMO Kennislink прогулялся мимо некоторых из более чем сорока тысяч объектов, которыми сейчас управляет музей. Или лучше:номера объектов. Сумка врача, полная инструментов, имеет один номер объекта, но, конечно, содержит гораздо больше предметов.
«Коллекция продолжает расти», — говорит Стинхорст. «Когда я начал здесь тридцать лет назад, здесь было восемнадцать тысяч номеров объектов. На самом деле ничто никогда не уходит. Мы только что получили еще один двухтонный телескоп». Где он оставил такого огромного монстра? «Ну, это немного субъективно, но если объект больше меня или для его поднятия требуется несколько человек, то он отправляется на наш большой склад в Альфен-ан-де-Рейн».
Отдельная голова
В музее постоянно предлагаются предметы. Часто из компаний, университетов или больниц. «Мы регулярно получаем полные коллекции. Например, от Shell, когда закрылась Королевская лаборатория Shell в Амстердаме. Мы также получили большую коллекцию от Unilever». Но есть и частные пожертвования, что иногда приводит к странным ситуациям. «Однажды у нас за партой сидела учительница с отрезанной головой в полиэтиленовом пакете. Он нашел его на чердаке своей школы. После консультации с этическим комитетом этнологических музеев было решено включить голову в коллекции.
Стинхорст не вмешивается в выбор предметов. «Так судят научные сотрудники музея. Они выбирают то, что подходит коллекции». После выбора объект сначала попадет в карантин. Стинхорст хочет убедиться, что он не проглотит древоточца, жука-усача, грибы или другую нечисть. «Однажды я получил коробку, которая, по словам дарителя, была совершенно чистой. Но я не поверил, завернул гроб в полиэтилен и положил на карантинное склад. Очень быстро древоточец проел не только пластик, но и полки шкафа. В конце концов мне пришлось снести весь шкаф».
Другая угроза – радиоактивность. Вот почему счетчик Гейгера, детектор радиоактивности, проверяет все. «В первые годы моего пребывания здесь мы купили его. Когда мы начали над этим работать, оказалось, что в коллекции действительно что-то сверкает». Конечно, теперь эти объекты хранятся в безопасном виде.
Следы использования
А потом? Как обращаться с научным инструментом? В случае произведений искусства или археологических находок реставраторы реставрируют только там, где это необходимо для предотвращения дальнейшего разрушения. Применимо ли это и к реставрации научных объектов? В конце концов, все дело в функции. Что, если это больше не работает? Стинхорст:«Для меня также очень интересен жизненный путь объекта, и следы использования или замены заслуживают сохранения. Хороший реставратор может выбрать период жизненного пути, в течение которого он или она будет восстанавливать, и это определяется после консультации с ученым, исследующим объект. Я не думаю, что все должно вернуться в исходное состояние. Наше видение заключается в том, что с объектом следует делать как можно меньше». Если объект больше не работает, не беда, лишь бы он был презентабельным. Стинхорст и его коллеги создают демонстрационные модели, чтобы показать публике операцию.
Что делать, если вы не понимаете, как это работает? Или если вы не знаете, для чего оно когда-то предназначалось. Стинхорст смеется. «Это происходит чаще, здесь есть много вещей, о которых мы еще не знаем точно, как это работает и для чего это нужно». Лучший способ узнать больше об объекте — просто разобраться с ним. Или попробуйте скопировать его.
Тем временем мы быстрым шагом идем по огромному зданию, в котором также расположены склады Naturalis и Национальный музей древностей. Мы идем из комнаты в комнату, наполненную бесконечными коллекциями «вещей». Стинхорст открывает ящики и коробки, и у всего есть своя история. Он берет плоскую синюю коробку, похожую на подарочную. «Я думаю, это очень красиво. Он из коллекции Shell. Сейчас мы говорим:«измерять — значит знать», но в прошлом сравнение было важнее измерения». В коробке находится ряд стеклянных трубок с прозрачной жидкостью и пузырьком воздуха, который движется по трубкам с разной скоростью, когда вы перемещаете трубку. ящик. Мера вязкости (вязкости) жидкостей! «Именно здесь с правой стороны ставишь трубку с жидкостью, которую хочешь измерить и потом видишь, какой эталонной трубке соответствует скорость.»
Оловянная чума
Во время прогулки становится очевидным, насколько разнообразна коллекция, а вместе с ней и проблемы, с которыми приходится сталкиваться такому реставратору, как Стинхорст. Например, проходим Leidse Flessen, широкие стеклянные бутылки, покрытые тонким слоем жести. Лейденская бутылка — это конденсатор:в ней можно хранить электрический заряд. Слой олова выглядит как облупившаяся краска. «Эти бутылки страдают от оловянной чумы», — объясняет Стинхорст. «При воздействии повышенной влажности происходит коррозия слоя олова. Затем он разваливается, как конфета».
Помимо оловянной чумы, существует множество недугов, поражающих предметы. Стекло может пострадать от «стеклянной болезни», слой глазури на керамике может треснуть, бумага может пострадать от грибка и так далее. Не говоря уже о современных пластиковых предметах. «Пластик высыхает и крошится или, наоборот, становится бесформенным и мягким. Эти материалы — катастрофа для реставратора». Он, кстати, не занимается всеми этими проблемами сам. Он привлекает внешних экспертов для реализации специализированных проектов, таких как реставрация керамики, стекла или бумаги.
Тем временем мы достигли нашей последней остановки:мастерской. Мы видим различные токарные станки для обработки металла, рабочие столы с инструментами и коллегу Ауке, который специализируется на реставрации древесины. Стинхорст отвечает за металлические предметы и технические инструменты. Он учился ремеслу в Лейденской школе производителей инструментов и является настоящим ремесленником-реставратором. «Раньше в таких музеях не было реставратора, а был просто умелый парень, который мог что-то починить». Он по-прежнему что-то чинит, но его время уже не полностью уходит на восстановление. Добавлено много задач. Например, руководство студентами. «У нас всегда есть студенты на стажировке. Из Лейденской школы производителей инструментов, а также из других курсов, и они приходят отовсюду».
Создание реплик
В одном углу мы видим современную исследовательскую установку. В реставрационной мастерской также проводятся научные исследования. Это область работы Тимена Кокуита, который здесь, на средства гранта музея NWO, исследует оптические инструменты семнадцатого и восемнадцатого веков. Его особенно интересуют методы шлифовки линз микроскопов и телескопов.
Удивительная задача Стинхорста — новое производство предметов. Например, демонстрационные модели:копии инструментов из коллекции, с помощью которых можно показать, как работает оригинал. Но здесь также занимаются промышленным производством. Точные копии первых микроскопов Антони ван Левенгука продаются в магазине музея Бурхааве. Сделано Полом Стинхорстом, который может выразить в этом свою очевидную любовь к этому ремеслу. Он показывает несколько «Ван Левенгуков». «Самое замечательное в изготовлении копий вручную — это то, что вы всегда можете увидеть, насколько искусными были мастера инструментов. Я также хотел бы передать эту копейку нашим студентам и общественности».
1/9
Модель глазных заболеваний
Реставратор Пол Стинхорст из музея Бурхааве проводит для Кеннислинка экскурсию по огромному складу. Здесь он показывает старинную гипсовую модель с различными заболеваниями глаз. Глаза имитируются до мельчайших деталей. Модель родом из Парижа и была изготовлена Феликсом Тибертом между 1830 и 1840 годами.
1/9
Искусственная почка A.E.G.
Терапевт Виллем Колфф разработал искусственную почку сразу после Второй мировой войны. В депо Бурхааве находится один из первых экземпляров, изготовленный в 1946 году фирмой A.E.G. (Allgemeine Electric Gesellschaft). В это время дефицита в основном используется уже имеющееся оборудование:мембрану оборачивают марлей и помещают в детский бассейн, на больничную тележку.
1/9
Микроскопы
После изобретения микроскопа Антони ван Левенгуком в 17 веке устройство быстро развивалось. Микроскоп пользовался популярностью не только среди ученых, но и среди горожан. Богатые то есть, потому что эти эксклюзивные модели с кожей ржи, акулы или черепахи стоили недешево. В 19 веке вечера «маленьких биноклей» были популярным развлечением, и владельцы были более чем рады произвести впечатление на своих гостей этими прекрасными биноклями.
1/9
Модели из папье-маше
До того, как у нас появился пластик, изготовление моделей в натуральную величину было очень трудоемкой и точной работой. Мышцы и вены на этом детализированном человеке и голубе из папье-маше были тщательно нарисованы вручную. Уникальную модель женщины создал в 1858 году французский врач и анатом Луи Озу. В коллекции Бурхааве 72 модели, включая голубя.
1/9
Прибор для физиотерапии Zander
В конце XIX века швед Густав Цандер разработал целый ряд приборов для физиотерапии. Упражнения, которые должны были выполнять пациенты, основывались на том, как они двигались в этот период. Это устройство имитирует езду на лошади.
1/9
Манекен акушера
Тканевый манекен матки и родовых путей, включая ребенка. На этой полуженской копии будущие акушерки XIX века учились своему ремеслу.
1/9
Гипсовые модели газовых законов
Знаменитый ученый Хайке Камерлинг-Оннес провел несколько экспериментов в своей лейденской лаборатории. В 1898 году он сделал эти трехмерные гипсовые поверхности, чтобы проиллюстрировать газовые законы.
1/9
Дельфтская синяя аптекарская банка
Одна из многих синих аптекарских банок Делфта, имеющихся на складе. Делфтская гончарная фабрика De Paauw изготовила горшок примерно в 1700-1750 годах. В этом горшке был абсент, который повредил камень. Отсюда и предупреждение:«Активная соль!» Хрупкий'
1/9
Львиный уголок
Микроскоп Антони ван Левенгука совершенно не похож на нынешний микроскоп. Как на самом деле работает это маленькое устройство? Это видно на видео из музея Бурхааве.